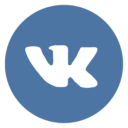Клуб Путешественников
Клуб Путешественников
Харам
Пишу - как Эмиль Золя, сдаю в набор перед выходом газеты. Интересно коллективное мнение. Рассказ - не порнуха, может быть именно поэтому и не актуален? А то тут как-то женщины про горячую, неповторимую турецкую любовь... Ну, а я им в ответ! Окончание через день, лады?
Регистрацию на рейс "Штуттгарт - Анталия" отложили на два часа. В здании аэровокзала яблоку упасть некуда. Вылеты почему-то задерживаются целыми пачками, в разных направлених, и желающих ещё и нежелающих уже лететь скопилось до неприличия много. Жара. Август. Толчея. Перед входом в аэровокзал зловеще мигает красным глазом электронный градусник – 35. И ровно сутки назад, в одиннадцать среднеевропейского времени, начался мой отпуск. Ну вот на фиг он мне сейчас, а?
У газетного киоска дюжина англичан в одинаковых серых костюмах с кейсами. Бизнес-тур, это ясно. «Файн, айм рэди!» Фейсы распаренные, как из парилки. Даже стрижка у всех одинаковая. Им Штуттгарт – провинция. Это не Хитроу, ясно дело, тут всё проще. Англичане с нескрываемым высокомерием косятся на суетливых швабов - по соседству с киоском только что поднял жалюзи хозяин лотка «Хофброй» и выставил несколько холодных, запотевших тут же бутылок пива на столики. Реклама. «Фрайбир! Угощаю! Прошу, биттэ, кому в удовольствие!» Как осы на мёд зароились у лотка изнывающие от жары улетающие и провожающие. Стало ещё громче и жарче.
A к стойке АЛАНИЯ-ФЛАЙ - как в мавзолей. И мне именно сюда. За моей спиной шумный и пёстрый семейный набор «мама с папой плюс детишки», за ними ошалевшая в ожидании предстоящей вседозволенности парочка лесбиянок, потом идут десятка два бесшабашных ребят в мятых футболках и с осипшими после попойки голосами. Рюкзаки, чемоданы, тюки. Движемся медленно. Впереди меня – море разливанное. Сколько же тут всего народу-то в зале? Три тысячи? Четыре? Сдуреть от жары можно!
Опять стоим. Девушка-диспетчер по оформлению билетов и багажа в который уж раз терпеливо объясняет что-то одному из пассажиров на Аланию, но тот, несмотря на протесты, пытается взгромоздить на весы сразу два своих огромных баула. Диспетчер энергично машет рукой, однако пассажир тупо не реагирует. Алибаба хренов! Лицо побагровело от напряжения, губу закусил, и пихает, пихает баулы в ячейку транспортёра. Девушка, наконец, сдаётся, но модифицировать законы гравитации с учётом турецкой реальности вовсе не так просто. Баулы с грохотом валятся на мраморный пол, турок в бессильной ярости закатывает глаза, садится рядом и исступлённо ругает четверг, авиакомпанию и весь в совокупности технический прогресс. На швабском, между прочим, диалекте, урюк!
И вот - наконец-то! Один за другим ныряем в спасительное прохладное брюхо «боинга», тут натужно ревут кондиционеры, тут немного тесно, но тут – всем хорошо. «Девятый ряд, Ваше место у иллюминатора, прошу!» А стюардесса очень даже ничего. Миндалинка! Стрельнула глазками раз-другой, ну-ка, ну-ка, что за товар тут у нас? Ага, один – и к морю? Всё ясно, орёлик, всё ясно...
Мне, как всегда, откат по полной программе. Сижу полубоком, отвернувшись к иллюминатору, сосед – знакомый по регистрации турок «Алибаба», теперь уже без баулов, зато с таким откровенным естественно-натуральным испарением, что хоть кислородную маску одевай. Кранты, ребята, как слышу иногда от земляков.
Турок летит не один, это я теперь конкретно уже замечаю. Сначала рядом со мною, на среднее сиденье, боясь даже краем глаза глянуть в мою сторону, села его спутница. Жена? Турок с подозрением косится на меня, на мои вызывающе короткие шорты, на журнал «Плейбой», который сунула мне в руки на входе девочка-миндалинка, потом зачем-то трогает свой огромный, баклажаноподобный нос и чего-то шепчет на ухо своей спутнице. Та тут же легкой тенью вспорхнула, пропуская сахиба на своё место – «твоя воля, мой повелитель...» Лицо бледное, с большими, широко посаженными глазами, правильный, почти классический профиль, через складки чёрного шёлкового хиджаба угадываю стройные бёдра и тонкую талию. На вид лет двадцать пять, не больше. Эксквизит, исключительная женщинка! Бывают же такие среди турчанок, чёрт! Дааа, милая, крупно не повезло тебе, если пишпек этот тебя в жёнах держит. Хотя – пути Аллаха, как известно...
«Боинг» яростно начинает реветь моторами и скрипнув раз-другой резиной разгоняется по полосе. Вот уже и остались внизу игрушечные домики окраин Штуттгарта, блеснул серебряной ниткой Некар, и поплыли навстречу от горизонта Альпы. Засыпаю...
* * *
Я закончил, наверное, четвёртый класс, когда отец впервые взял меня с собой в рейс на Ташкент. До этого мы тряслись с самого Урала по разбитым целинным трассам и степным дорогам бескрайнего Казахстана, жевали на редких, грязных автозаправках взятые в дорогу пирожки и сваренные вкрутую яйца, запивая их тёплой, противной водой из бачков придорожных столовых, и спали в обнимку в тесной кабине старого отцовского «зила», укрывшись промасленной фуфайкой.
После недели всех перепитий воскресное утро щедро пахнуло нам в лица ароматом восточного базара. Стоял конец августа, разгар бахчевого сезона, мы ходили меж бесконечных прилавков с зеленью, фруктами, огромными арбузами и дынями, горками свежего урюка, я таращился на весёлых узбеков в цветных их халатах и смешных тюбетейках, пытался понять, что кричат наперебой зазывалы, толкал в рот дольки персика, услужливо протянутые из-за прилавков, надкусывал золотистую сливу, экзотический по временам развитого социализма фрукт, и вдыхал, дурея, неведомый доселе, сладкий, тёплый воздух. Отец улыбался и ерошил мне волосы: «Вот они, прелести жизни! Учись, будешь шоферить, как я, не то ещё увидишь!»
Шоферить мне не довелось. Зато с учёбой выпали одни козыри, мало не покажется. И была потом, конечно, классная работа, хороший приход, и много чего другого было. Но так сложилось, что в высших эшелонах государства кто-то со скуки и от безделья удумал запустить в практику советов депутатов интересное совершенно новшество – перестройку. Новшество быстро проросло, но, к сожалению, не в ту сторону, куда хотелось эшелонам, пошли фрукты, и от огромного лагеря с нелепым названием «лаборатория дружбы народов» начали вдруг отваливаться кусками голодные, но гордые и самоопределяющиеся нации и народности, которые фруктов отведали.
Наличие иностранной валюты перестало быть оскорблением памяти вождя революции и уголовно наказуемым нарушением, и я, как и все мои университетские друзья и миллионы других послушных сограждан, утомлённых походом в светлое будущее, интенсивно приобщился к процессу накопления банковских знаков с профилем президента Линкольна. Денежная единица классового врага стала всесоюзной единицей измерения уровня счастья. Деревянные рубли таскали ящиками и мешками и всерьёз как-то не воспринимали.
Со временем и это всё надоело, я подучил забытый немного после долгого перерыва в общении с бабушкой-дедушкой немецкий, собрал скромные свои пожитки и расстался навсегда со страной, где человек шагал всё время, как хозяин. Дальние страны! Десять лет как отрезало. Неметчина!
И – вот она, Алания! Изо всех сил пытаюсь расслабиться, снять напряжение последних двух недель, заставляю себя, как капризный ребёнок, распробовать и проглотить, наконец, новый это продукт: трудовой, законный отпуск. Пятый день шляюсь по пляжу, иногда валяюсь на лежаке у бассейна, приглядываюсь к ландшафту, к отдыхающим. Загорать не особо хочется, верно говорят – всякому фрукту своё время. Не дозрел ещё до отпуска. Просто неделей назад вдруг обозначилось, что отработаны уже все заказные проекты, а новых не поступило. И властьимущие тупо решили: инженеров-системотехников в отпуск! На месяц, блин! Капиталисты хреновы.
Да и август месяц - не самое лучшее время в Турции. Горячее море дышит солью и аптечным духом. Дни тянутся бесконечно долго, все до одури однообразные. Завтрак, бассейн, пляж. Ужин. Крашенная, несовершеннолетняя на вид блондика в узкой маечке за соседним столиком назойливо подмигивает украдкой от мужа - в каком ты номере? Ну, что мне с тобой делать, цыпочка? Твоя «отелла» с лысиной ведь ни на шаг от тебя!
С восьми до одиннадцати вечера бестолковая суета в фойе-салоне под соусом развлечения, потом пара сигарет у бара, чашка-другая кофе, имитированного под арабский. Две подвыпившие, развязанные француженки постоянно пытаются склеить меня у стойки. Густая краска с ресниц осыпалась на щедро отмакияженные щёки, вся губнушка давно уже проклеена отпечатками по ранту винных стаканов. Так и подмывает собрать ладошками их размазанные по крышке стола, сморщенные сисечки и запихать им их назад, в декольте дешёвых платьишек. Вуаля!
«Мусьё, а вы что же, совсем один тут отдыхаете?» Угу. Один. Совсем. Дайте побыть одному, ребята. «А почему вы такой кислый?» А прокис, бляха, вот потому! Нету у меня сейчас никакого желания совокупляться, понимаете, мадам? В такую жару только макаки могут. Всё, на хрен, иду спать! И так снова, и снова, и снова...
* * *
Ясмину я встретил на девятый день, ранним утром, в Алании. Мне просто хотелось убить время, прихватив в ресторане ланч, я налегке и в который уже раз пешком отправился на базар.
Солнце лениво вывалилось из за плоских пригородных холмов и мириадами бликов заиграло сразу в лужицах на мокром асфальте. Где-то далеко, в дымных минаретах начал хныкать муэдзин. От струй оранжевых моечных машин, поливавших улицы, взметались полукружьями симпатичные радужные кольца. В придорожных кустах дерзко спорили о чём-то серые турецкие воробьи, а я шагал мимо уютных глиняных домиков, мимо недостроенных вилл, слушая АББУ по телефону-транзистору, и время от времени пытался изобразить из себя профессионального фотографа, наводя на стайку скучающих телят или коз объектив нового своего числовоого «никона».
Рынок меня не удивил и на этот раз, хотя во всех проспектах для лохов-туристов и значится, что он – само-самый на средиземном побережье. Который день я тщетно пытался отыскать эти признаки. Часа два бродил по узеньким тенистым туннелям от одного магазинчика к другому, пока снова не вышёл на фруктовый базар.
Под высоким шатром раскинулись веером столы-прилавки, гортанные голоса, гомон, музыка, смех. Становилось жарко, часы на базарной площади прохрипели девять раз. Я отведал ломоть арбуза, купил кулёчек алычи, с удовольствием съел медовую грушу. И вдруг – чья-то прохладная ладонь на плече. «Гюнайдын!», услышал я сначала по-турецки, а затем на «родном», швабском: «Грюс готт!»
Поначалу я сразу и не сообразил, что это она, девчушка из «боинга». Хиджаб белого шёлка, платок чуть откинут со лба, на лице скромная улыбка, но какая, блин! «Гюнайдын! Вот и встретились!» В глазах у неё искры, поверху – ресницы, как у мадонн Эль Греко, куда там всем красавицам Лагерфельда! За нею, на светлой клеёнке стола, стопки пёстрых коробок, рядом – такие же молодые девчушки услужливо кивают покупателям. Она робко улыбнулась.
«Меня зовут Ясминой, но вы не называйте меня по имени. Пожалуйста...», быстро проговорила она вдруг по-немецки и протянула мне две коробки. «Я уже несколько раз вас здесь видела... Нужно поговорить. Вот - семена помидоров из Голландии. Брать будете? Очень хорошие семена, чудесные.»
Соседки Ясмины с любопытством разглядывают меня, ожидая, очевидно, как я выпаду в осадок. Я уже хотел было ляпнуть, что страсти к помидорам не питаю, и лучше бы выпил с нею настоящего турецкого чаю, как она мельком приподняла крышечку и незаметно для соседок ткнула пальцем внутрь одной из коробок.
«Всего два евро, и в Германии этот сорт тоже прекрасно приживается, нужно только правильно выбрать номер», тихо, но чётко и с расстановкой сказала она, положила предо мной обе коробки и тут же отвернулась к другому покупателю.
Толстый потный араб со слюнявыми губками начал глупую с ней болтовню, перемешивая гортанный арабский говор с английскими и турецкими словами. Я тупо смотрел на Ясмину, пытаясь запихать коробки с семенами в карманы шорт. Вид у меня был, скорее всего, не голливудовский, потому как турецкие красавицы по другую сторону прилавка стали вдруг показывать на мою физиономию и хихикать, прикрывая ладошками порченные дешёвым табаком и трудными турецкими буднями зубы.
День начинался весело. Только как мне всё это было понимать?
* * *
В гостиницу я вернулся далеко за полночь. По дороге из Алании меня подобрал маршрутный долмуш, и в нём я встретил земляков, соседей из Штуттгарта. Заехали в тихий, тенистый ресторан, плотно пообедали, затем ещё раз, потом поужинали, заливая всё это хорошей греческой «метаксой». О чудодейственных семенах Ясмины я вспомнил только утром, выйдя из душа и выпив третий стакан воды с таблеткой аспирина.
Наспех вытеревшись, я распечатал дрожащими руками обе коробки и достал вложенные для растениеводов советы. На плохом немецком языке голландцы пытались втереть туркам, что только их помидоры способны обрадовать гурманов Кападокии. На полях одного из листков твёрдым почерком было выведено девять цифр. «До 20.00 часов, пожалуйста», значилось в приписке. «Ясмина.»
Телефон в номере молчал, как герои-краснодонцы на допросах, а карта «телекома» моего мобильника тупо слала сигнал: нет сети и провайдера! Босиком и в одних шортах я прошлёпал в вестибюль, купил турецкую карточку и набрал номер. Гудки шли долго и нечётко, десять секунд, тридцать секунд, ну, сколько можно? Наконец-то на другом конце кто-то отозвался. «Бу ким?» прохрипел из моего «эриксона» низкий мужской голос. Я нажал отбой. Мои попытки в течение дня вызвонить Ясмину ничего мне не дали, кроме головной боли. Номер больше не отвечал.
Следующим утром я ехал первым долмушем на рынок. Ночь была бессонной. Я выкурил пачку дерьмового липового «кэмэла» и выпил три литра кофе. Уснуть не мог. Поначалу мне грезилась всякая дрянь – почему Ясмина вдруг решила дать свой номер? Почему именно мне? Нет ли тут какого подвоха? Что за абрек ответил на мой звонок? И вообще – как понимать фразу «нужно поговорить»? Почему – нужно? И кому нужно? Природное любопытство моё постепенно брало верх над одурманенным тестостероном разумом. Пазар теси. Понедельник, значит.
Чтобы не светиться, я купил у первого же текстильного киоска простые арабские шаровары, нейтрального цвета футболку с какой-то бестолковой надписью, натянул всё это поверх своей пляжно-парадно-выходной формы и напялил солнцезащитные очки. Видуха в семь утра у меня была, несомненно, классная.
Ясмины за прилавком не было. Я несколько раз обошёл весь овощной рынок, постоял в тени акации, спрятавшись за стволом дерева, внимательно оглядел ряды продавцов. Никого.
Я скорее почувствовал, чем услышал, шаги за спиной. «Донт тёрн раунд», прозвучало на ломаном английском, голос был низкий, женский, говорящая горячо дохнула мне в затылок. «Не оборачивайтесь. Она сама вам позвонит сегодня, ждите.»
Джеймс Бонд бы мне точно позавидовал. Во всяком случае, у него ни в одном фильме не было таких ситуаций, чтобы он пень-пнём стоял посреди турецкого базара, облачённый в дешёвые арабские тряпки, мучился резью в мочевом пузыре и не имел абсолютно никаких решений. Ему всегда подсовывали готовый сценарий. А мне? Уравнение какое-то, едрёна мать, с двумя неизвестными. И надо мне вот это всё?
* * *
Телефон мой зазвонил громко и совсем некстати. Жаркая ночь опустила тяжёлый свой занавес над морем, голоса и звуки вязли во влажном мареве. Я сидел в первом ряду в фойе-салоне, на импровизированной сцене самодельный факир пытался всунуть себе в рот ржавую шпагу. Шпага никак не лезла, факир-самозванец нервничал и снова и снова начинал известный всем фокус.
Зрителей в салоне было мало, на заднем ряду кто-то лениво захлопал в ладоши. «Браво, маэстро!» Когда клинок наконец-то наполовину погрузился в гортань пожирателя металла, из моего нагрудного кармана полилась дивная швабская народная мелодия «Мусс и дэнн...» Факир поперхнулся и сильно выпучив глаза побежал за занавес.
Голос Ясмины звучал тихо и немного печально. «Вы где сейчас?» спросила она после того, как мы обменялись приветствиями и робкими комплиментами. «Мы можем сейчас встретиться?»
«Эриксон» чуть не выпрыгнул из моих рук, прочь в турецкую, раскалённую, как печной воздух, ночь, подальше от дурня факира. «Можем, нет вопросов! Где?» Я уже бежал по скудно освещённой дорожке к центральным воротам, сердце моё булькало, икало в районе кадыка и гнало столько адреналина в кровь, что его с избытком хватило бы на взвод морских пехотинцев.
«Слушайте внимательно!» Ясмина говорила на исключительном немецком. Сколько бы я даже потом, позже не пытался услышать хоть самый маломальский акцент в её произношении, потуги мои были напрасны. Это осталось самой большой её загадкой.
«Постарайтесь незамеченным выйти с территории гостиницы.» Уже сделано! Я с разбегу вскарабкался на одну из толстых, шершавых пальм, прислонившихся к прутьям ограды, и перемахнул через двухметровый забор. Кто осмелится сказать, что мне почти тридцать?
«Выйдите теперь к площадке перед маяком, но оставайтесь в тени. Через минуту к вам подъедет автомобиль, садитесь на заднее сиденье, и по возможности ничего не объясняйте. Не нужно, чтобы водитель слышал вашу речь...»
Из меня гнало пот, как после двенадцати раундов боя с Валуевым. Мысли испуганно и беспомощно метались в гудящей голове. Зачем это всё? Что за чертовщина, зачем, для чего эти ночные вылазки, какие-то таинственные рандеву, автомобили с водителями? Валуеву проще. Отёрся полотенцем и пошёл за своим трёхсоттысячным гонораром.
Маяк на берегу пытался пропороть своим лучом тёмное небо, свет неровными, пляшущими пятаками отражался на поверхности моря, они убегали от берега всё дальше и дальше, теряясь в ночи.
Заглушая мерное, тихое шуршание прибоя, послышался звук мотора. Свет фар выхватил на мгновение кусок асфальта, придорожные кустарники, автомобиль объехал вокруг башни маяка, вырулил с освещенного пространства и остановился метрах в десяти от меня. В слабом свете кабины я различил силуэт женщины-водителя, сидящей за рулём. Она негромко свистнула и подала мне знак рукой: «Можно!»
Скрорым шагом я подошёл к автомобилю, задний госномер хорошо читался в полумраке, немецкий, кстати, госномер. «Форд эскорт», отметил я про себя. Хорошо, если не развалится, когда я втисну свои метр девяносто роста и сто кило массы тела в салон.
Форд не развалился. Мотор всхлипнул, заурчал, мы тронулись. Метров через пятьсот от маяка, когда луч прожектора его стал уже неровным и рассеянным, женщина-водитель погасила фары. Я встревоженно вытянул шею. «Ноу проблем», успокоила меня мадам за рулём. «Я иметь знать дорога как пять пальцы рука одна. Ехать темно. Так надо быть.»
Вам, может быть, и на самом деле надо. Зачем только?
| Автор | Юрген Байерле |
| Опубликовано | 2008-03-16 04:05:18 |
| Регион | Турция |
| Тип | Опыт путешествий |
| Статус | Просто люблю путешествия |
Контактная информация автора доступна только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрироваться Авторизация